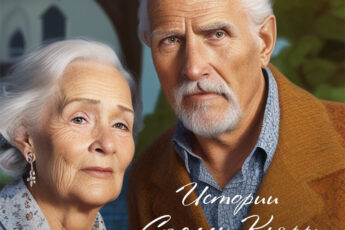− Они говорят, что шансов практически нет, но отец ни за что не согласится отключить её. Если бы ты только слышала, что я наговорил ей в тот последний день… Так стыдно.
Максим сидел на старых ржавых качелях и чуть раскачивал себя ногами, отталкиваясь от земли. Он опустил голову и не видел ничего, кроме своих колен и скользящей туда сюда серой почвы. Рядом с ним сидела подруга по двору Светка. Они здорово дружили в глубоком детстве, но теперь, когда Максиму было уже четырнадцать, он связался с более чёткой компанией, а такие как Светка, двенадцатилетние неказистые утята, продолжали шить куклам платья.
− Она на тебя не сердится, Максим. Ты не виноват в том, что произошло. Это был несчастный случай. Ты ни при чём.
Кап-кап-кап… Закапали на колени горькие и скупые слёзы мальчишки. Искреннее сострадание способно проломить дверь в любой стене, особенно в такой тонкой, фанерной, выстроенной наскоро, как у Максима…
Ровно два месяца назад его жизнь остановилась, резко ударив по тормозам. В начале апреля его мама возвращалась с работы. Руки её держали руль, а плечом она прижимала к уху мобильник. Она жаловалась сестре на вышедшего из под контроля Максима и на вредного начальника отдела, она боялась, что её лишат ежеквартальной премии из-за какой-то неверно составленной бумажки, она всегда была излишне беспокойной и чувствительной, его мама… Последние минуты её осознанной жизни в деталях восстановило следствие, благодаря показанием сестры. Её лихо закрутило на обледенелом участке, сестра слышала скрип тормозов и отчаянный вопль, потом был такой звук, словно груда металла врезалась в дерево и всё затихло. Сестра «алёкала» ещё с минуту, но ей никто не отвечал и она, сообразив наконец, позвонила на единый номер службы спасения.
Позвоночник мамы чудом остался цел, но была серьёзная травма головы, а её руки и ноги собирали заново по косточкам. Когда Максима впервые пустили в палату к его маме, то он узнал в ней только очертания губ и ногти с тусклым оттенком лаванды — всё остальное было заковано в гипс и бинты, а сомкнутые глаза заплыли сливовыми фингалами.
− Она поправится? — спросил Максим у отца, не понимая всех масштабов трагедии.
Отец выглядел так, словно был под гипнозом, он не брился уже десять дней и постоянно пребывал в каком-то пугающем оцепенении. Ему стоило огромных трудов переключать себя в социальный режим, чтобы отреагировать на внешние раздражители. Он тупо поглаживал один из маминых ногтей с тусклым оттенком лаванды.
− Не знаю, Максим. Она в коме.
− Она спит?
− Нет, она выключена, как лампочка. Представь, висит лампочка в комнате под потолком, но комната — это не привычная комната, а твой мозг и сознание. Есть ещё выключатель, он всегда работал исправно: ты выключал его и спал, потом включал и бодрствовал. Но даже когда ты спал, в твоей голове горел ночник подсознания, то есть мозг продолжал работать и поэтому ты видел сны. А теперь представь, что в твоей комнате, в твоей голове, разом перегорели все провода и выключатель больше не реагирует, и ночник тоже погас. То же самое сейчас с мамой — она выключена, рраз — и погасла, лежит с обрубленными проводами в полной тьме. Её организм не знает, как подключить маму назад к «электричеству». Никто не знает.
− И как же она очнётся? Если никто не знает…
− Не знаю. Но такое бывает.
Максим и сам чувствовал себя инвалидом. После недели, проведённой дома с отцом и бабушкой, которая примчалась к ним через полстраны первым поездом (трясясь трое суток на верхней полке) он с трудом вливался в школьную жизнь. Разбитная компания, так привлекавшая его и служившая поводом для многочисленных ссор с мамой и отцом, перестала его так манить. В той компании Максим многому успел научиться: пить, курить, хамить учителям, дебоширить и вообще проявлять во всей красе свой юношеский максимализм. Через два месяца он отдалился от всех друзей, замкнулся в своём горе и выходил во двор только для того, чтобы встретить старых, правильных знакомых. Просто такие, как Светка, не станут убеждать его, что нужно выпить, ведь так станет легче. Такие, как Светка, возьмут его за руку и тоже заплачут, и от слёз тех сожмётся сердце Максима до невыносимого больно, а потом вдруг отступит боль и захочется прогуляться у пруда, взяв с собой покрывало и перекус. И они пойдут со Светкой и другими к пруду, распалят костёр, бросят в него картошку, а потом навернут её, посыпав приправой от роллтона. Вкусно!
Бабушка часто посылала Максима в магазин за продуктами. В один из таких дней он возвращался с пакетом домой и за ним увязалась бездомная собака. Причём это была не какая-нибудь случайно созданная Богом дворняга, а настоящий спаниель с милыми кудрявыми ушками. Собака была бело-коричневой масти. Ото лба у неё шла белая полоса, расширяясь по всей переносице, а сам носик и уши были коричневыми. По остальному телу тоже шли крупные и породистые коричневые пятна.
Максим дал ей половину сардельки, но она не стала её есть. Собака села и стала смотреть на Максима. Она смотрела на него так пронзительно, так умно и печально, с лёгким укором и надеждой на лучшее, что мальчика вдруг озарило, шугануло током и тысячи мурашек пробежали по телу. Он присел на одно колено перед бездомной псиной, заглянул за карию радужку добрых собачьих глаз и спросил потрясённо:
− Мама?
А что? А почему нет?! Ведь сколько снято фантастических фильмов о переселении душ в другие тела?! Почему его мама не могла сделать так же? Да, да! Её выбило из тела, а рядом пробегала эта собака, а мама так любила их с папой, что воспротивилась улетать на небо и вселилась в неё! Вселилась, чтобы всегда быть рядом, чтобы утешать и поддерживать, несмотря на то, что порой они оба вели себя с ней, как за*ранцы…
− Мама? Мама, это ты?
Собака завиляла хвостом и скульнула, не до конца поняв, что от неё хотят. Максим протянул к ней руку, не отрывая завороженного взгляда от карих глаз незнакомки. Собака обнюхала кончики его пальцев — они приятно пахли сардельками — и разок лизнула их. Максим с опаской погладил спаниеля и собака подалась навстречу… Мальчик бросил пакет и стал с упоением чухать её за кудрявыми ушами, проводить по спине и бокам, а собачка, вывалив розовый язык, улыбалась и смотрела на него с нежной благодарностью. Без особого труда Максим заманил её к себе в квартиру. О том, что это не простая собака, а мама, вселившаяся в животное, он никому говорить не стал. Бабушка и отец, видя, как счастлив мальчик впервые после аварии, как он ожил и как искренне смеётся с проказ миловидной собачки, единогласно решили оставить её у себя.
− Но она породистая, — засомневалась бабушка, — могла просто потеряться… Хозяева могут найтись…
− Нет, ба, я уверен, что она останется у нас навсегда. Эмма, девочка, прыгай ко мне на диван! Красавица, умница… — носом зарывался Максим в чистую собачью шерсть. Он вымыл её маминым шампунем.
− Почему Эмма? — спросил отец.
− Мама говорила, что в детстве очень любила это имя, называла так всех кукол…
Отец сглотнул подступивший к горлу ком. Собака и впрямь была чудесной, умной и воспитанной.
Максим и Эмма стали неразлучны. Они спали вместе, ели, Максим разговаривал с ней, как с человеком, ласкал её, обнимал, целовал… Эмма, слушая его длинные возлияния, опускала мордочку на передние лапы и слушала его так внимательно, словно и впрямь понимает. Если Максим был занят другим, она подползала, подползала к нему поближе, клала голову на колено, и всё смотрела, прискуливая, на нового хозяина, умными и добрыми глазами.
Эмма всегда была очень послушной, дважды повторять не приходилось, но в один день она неожиданно взбрыкнула… Ранее Максим никогда не брал её с собой в больницу, чтобы проведать мать, а в тот день решил прогуляться пешком вместе с Эммой. Он привязал её за перила перед входом, дверь за ним почти закрылась, как вдруг в узкую щель шмыгнула Эмма! Сорвавшись с поводка и закинув язык за плечо, Эмма ворвалась в фойе больницы, Максим с криками полетел за ней. Администратор тут же накинулась на них с воплями. Максим предпринял безуспешную попытку изловить животное, а та давать играть — влево, вправо от него прыгает, скок-поскок! Разъярённая администраторша ринулась к ним и у Максима от вида сей грозной дамы в голове что-то щёлкнуло — он взревел:
− Эмма, за мной! — и полетел на четвёртый этаж, перепрыгивая разом по три ступеньки, а следом за ними образовалась жалкая погоня из престарелых работниц больницы.
Медсёстры шарахались в стороны от безумной парочки, когда Максим и Эмма — один красный, а другая весёлая и с языком на плече — летели по коридору четвёртого этажа. Предпоследняя дверь в конце… Максим ворвался к палату к матери, попытался защёлкнуть дверь, но замка не было, поэтому он забаррикадировал дверь стулом. Тяжело дыша и утирая со лба пот, он посмотрел на собаку, подумал о том, чего ему будет стоить эта выходка, а потом перевёл взгляд на мать.
Он сел рядом и взял её за руку. На её пальцах уже не было маникюра цвета бледной лаванды… Ногти были коротко сострижены, а пальцы стали тоньше. Он взял на руки собаку и сказал:
− Смотри, Эмма, узнаёшь её? Это тело моей мамы. Ты была в нём? Ты помнишь?… Ах, если бы ты только могла в него вернуться…
Эмма потянулась носом к лицу мертвенно-бледной женщины.
− Хочешь понюхать? — спросил Максим. Ему было тяжело держать собаку, но он поднёс её поближе, чтобы Эмма смогла дотянуться.
Эмма основательно понюхала пропахшую лекарствами пациентку. Вдруг она высунула свой длинный язык и успела облизать щёку женщины раза три…
− Это что ещё за безобразие! — крикнул врач, ворвавшись в палату.
Максима отшвырнуло.
− Я… мы… — заблеял он. Мальчик попятился с собакой на руках.
− Силы небесные! — вскричал врач, переведя взгляд на маму Максима. — Она вышла из комы!
Холодной волной накрыло Максима и ноги его чуть не подкосились. Он посмотрел на мать — она лежала с открытыми глазами и из трубки, всунутой ей в горло, раздавались хрипы, словно она пыталась что-то сказать.
− Мама… Мама! — он сбросил на пол собаку и подбежал к кровати. Там уже суетился более расторопный врач, он что-то спрашивал у его мамы, давал указания медсёстрам, а мама смотрела на трясущегося Максима, и взгляд её был осознанным, ясным…
− Да уберите же вы отсюда собаку, пока я не вызвал полицию! Юноша, вы слышите!
Как в тумане Максим спускался вниз. Словно в топком болоте вязли его сделавшиеся ватными ноги. Эмма послушно семенила за ним и уже спокойно дала вновь привязать себя к перилам больничного крыльца. Кажется, Максим долго-долго целовал и тискал собаку, пряча слёзы в её коричнево-белой шерсти. Кажется, Эмма облобызала влажным языком всё его то плачущее, то смеющееся лицо… Она по-прежнему смотрела на Максима умно, пронзительно и печально, и за карией радужкой её собачьих глаз мальчик по-прежнему видел безграничную преданность, поразительную жертвенность и самую настоящую, точно человеческую, любовь…